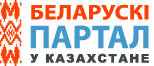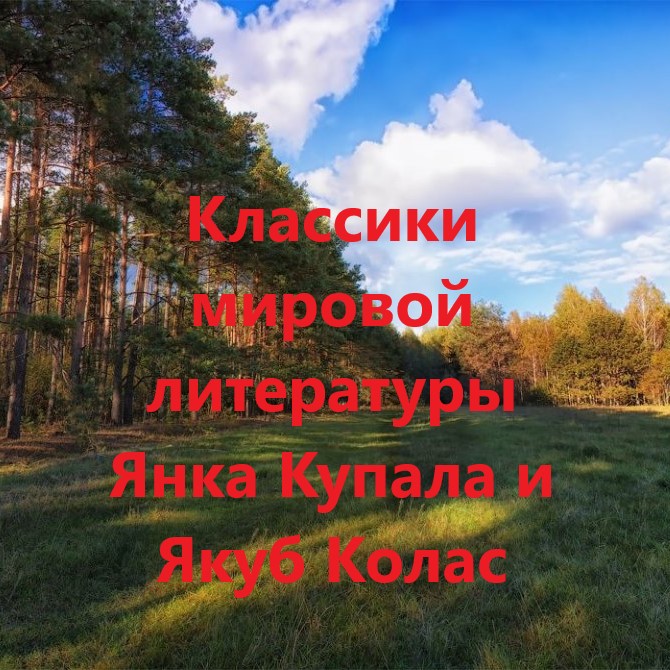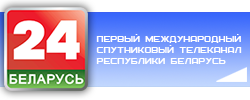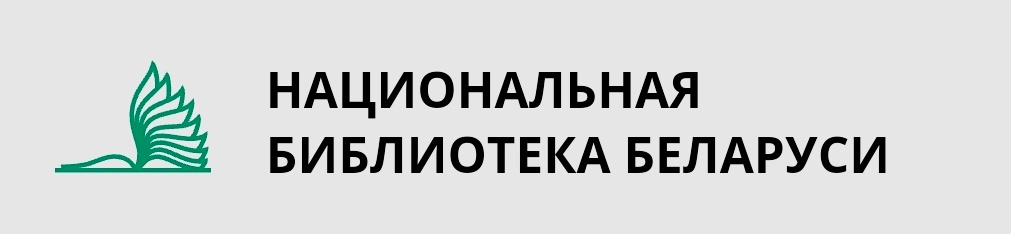Владислав ВЛАДИМИРОВ
Потрясающий фотоснимок передал мне специально для нашей газеты «Огни Алатау» известный во всем Содружестве хирург знаменитой медицинской школы казахстанских академиков Сызганова и Алиева, лауреат Государственной премии Дмитрий Дмитриевич Поцелуев – любимый сын нашего незабвенного, истинно народного писателя Дмитрия Федоровича Снегина, чья фронтовая и творческая судьба неразрывно связана со сформированной в Семиречье героической 8-й (316-й) гвардейской дивизией имени генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова и её 27-м гвардейским Талгарским (Алма-Атинским) артиллерийским полком, которым Снегин командовал.
 Нельзя было узнать на этой фотографии, сделанной Михаилом Ананьевым из братской Белоруссии у обожженных вражеским огнем порушенных стен, искореженных брустверов и полузасыпанных рвов, легендарную Брестскую крепость 43 года назад – летом 1962 года. Этот снимок обошел всю планету. А в СССР он, помнится, был удостоен диплома первой степени на третьей Всесоюзной художественной фотовыставке.
Нельзя было узнать на этой фотографии, сделанной Михаилом Ананьевым из братской Белоруссии у обожженных вражеским огнем порушенных стен, искореженных брустверов и полузасыпанных рвов, легендарную Брестскую крепость 43 года назад – летом 1962 года. Этот снимок обошел всю планету. А в СССР он, помнится, был удостоен диплома первой степени на третьей Всесоюзной художественной фотовыставке.Дмитрий Федорович Снегин держал этот снимок у себя дома перед рабочим столом на книжном стеллаже рядом с фотографией самого верного фронтового побратима Баурджана Момышулы и своим, чудом выпущенным в 1944-м, поэтическим сборником «Годы», посвященным всем гвардейцам-панфиловцам.
Тогда, в 1962-м, еще многие защитники Брестской крепости были живы. И среди них –запечатленный на этом снимке семиреченец Владимир Иванович Фурсов – доктор биологических наук, автор многих актуальных научных трудов, один из самых любимых студентами преподаватель Казахского государственного университета – в ту пору имени Кирова. И вот только тогда, в 1962-м, мы, сами выпускники КазГУ по заочному отделению журналистики, уже не первый год проработавшие в газетах, но только что получившие свои дипломы, узнали, чтo за необыкновенный человек этот всегда скромный великан Фурсов и отчего в его огненнорыжей шевелюре так много седины.
Фотограф из далекой от Семиречья Белоруссии, сам того не ведая, извлек героическую и трагическую судьбу Фурсова на всепланетное обозрение, и она, эта горькая и в то же время пронзительно светлая юдоль человека, изувеченного Войной, но все-таки победившего Войну, сразу же подвигла двух крупных писателей-фронтовиков на проникновенное Слово о нем. Этими писателями стали отменно и давно знакомые друг другу москвич Сергей Сергеевич Смирнов и коренной семиреченец Дмитрий Федорович Снегин.
Сергей Сергеевич за расширенное издание свой документальной эпопеи «Брестская крепость»(1964 г.) был удостоен в 1965-м самой престижной из премий в СССР и всем социалистическом содружестве – Ленинской. Дмитрий Федорович Снегин за однотемное документальное сказание «В те дни и всегда» (1967 г.) схлопотал суровый начет родной цензуры, а также крупную выволочку в самой высокой тогдашней партийной инстанции.
В 1973 году оба литератора встретились в Алма-Ате на Пятой Международной конференции писателей стран Азии и Африки, о многом дружески перетолковали между собой. В том числе и о том, как совместно развить великую тему о прежде мало кому известных, а то и вовсе неизвестных героях Великой Отечественной войны. Оба очень были рады, что нашли общий язык и общих героев. Но неожиданная кончина Сергея Сергеевича в 1976-м (а он ведь был на тройку лет моложе Снегина – 1915 года рождения) безжалостно подсекла и обломила самые добрые намерения и уже начатую работу, которую Дмитрию Федоровичу довелось продолжать уже одному до самого Третьего тысячелетия.
И Фурсов стал в ней отнюдь не проходной фигурой. На всю жизнь запомнил он – сержант, комсорг минометной батареи 125-го стрелкового полка, раннее воскресное утро 22 июня 1941 года – а Гитлер при нападении на любую из стран выбирал только выходной день и предрассветный час. Вот как со слов Фурсова поведал об этом Снегин: “Его разбудил грохот. Грохот катился по казарме – рваный, косматый и непонятный; бился о потолок, о стены, безобразя их глубокими ветвистыми трещинами. Неслышно осыпалась штукатурка; метались в исподнем красноармейцы, похожие на призраков; высоко, под самым потолком, раскачивалась на тонком шнуре погасшая лампочка”.
Но уже первые ожесточенные бои и схватки с гитлеровцами в самой крепости, в районе вокзала станции Брест-1, на приграничном шоссе Варшава-Минск стремительно смели прочь панику и растерянность, испуг и страх, пробудили в поначалу вроде бы безнадежно огорошенных Фурсове и его однополчанах истинно ратный азарт и непреклонную убежденность в том, что бить гитлеровцев можно и – надо.
Быть может, и парадокс, но сакраментальные поражения первых дней и ночей внезапно грянувшей войны для Фурсова обернулись четким предчувствием неминуемых побед над сильным и наглым супостатом.
Однако после злой вражеской танковой атаки у шоссе случилось так, как может случиться только на войне и нигде больше: чудовищно контуженного, с раздробленной правой ногой его подобрали местные жители. Дабы спасти ему жизнь, уберечь от пули или петли карателей, они скрыли, что Фурсов кадровый военный человек, и выдали его за молодого необстрелянного приписника, тоже из местных, случайно попавшего на место боя, после чего он оказался в огромном лагерном госпитале для советских пленных.
И тут его поразила встреча со своим непосредственным начальником – командиром 125-го стрелкового полка майором Дулькейтом. Нет, тот стал не просто военнопленным – Дулькейт занял пост коменданта этого госпиталя-лагеря. Не сразу и не вдруг, но пока еще во многом не искушенный Фурсов поймет, что столь нелепая метаморфоза с прежде безукоризненно-честным Дулькейтом не есть предательство, а есть для советского немца единственная возможность уберечь от неминуемой расправы и гибели сотни красноармейцев и командиров, сохранить им жизни и силы, обеспечить успешный побег.
Всякий пишущий литератор прекрасно знает, насколько каторжна верста, отделяющая его рабочий стол от печатного станка. И Дмитрию Федоровичу, тоже изувеченному войной, каждая рукопись, каждая книга давались невероятно страшной ценой, о чем он никогда и никому не говорил. Именно эту зону души он превратил в недоступно-заповедную. Лишь 36 лет спустя открылись мне его тайные пометки, оставленные им только для себя и ни для кого больше на машинописных страницах первого варианта повести о Фурсове. В правом нижнем углу одной из них я нашел: “1 августа 1965 года, воскресенье. Первая проба сил после хвори, больницы.” Еще через несколько страниц: “1 сентября 1965 года. Вчера прекратили внутривенное вливание. Вот и пытаюсь работать”. А 6 сентября 1965 года вот какая строчка легла на бумагу после тщательно отработанного на машинке жуткого эпизода лазаретного трупоедства (эти страницы потом выжгла цензура): “Пишу перекатами через головную боль”.
На титуле машинописи значится Снегинским красным карандашом: «Экземпляр, прочитанный В.И. Фурсовым”. Замечаний от Фурсова – ни единого: всё Снегиным схвачено и передано так, будто он сам преодолевал все круги нацистского ада. А он и в самом деле преодолевал их. Снова – за Фурсова и за себя тоже; свои неописуемо-страшные фронтовые недуги преодолевал, чтобы правда о неволе, которую прошел Фурсов, осталась бы правдой и чтобы тут не было подмены ее ложной идеологической схемой.
И вот читаю про эту правду, опять-таки казнённую бдительными цензорами. Она без спасительной ретуши и милосердных округлений. Фурсов сменил немало лагерей. Были лагеря Холм и Белые Подляски. Был лагерь Замостье. Был лагерь Сувалки, а потом лагерь Торно. Названия разные, а порядки одни и те же – зверино-бесчеловечные, хотя и палачески отнюдь не единообразные.
В одном лагере надзиратель Фогель провинившихся не вешал и не расстреливал, а ловко умерщвлял широким охотничьим ножом – всаживал в затылок по самую рукоятку или же в спину, пониже левой лопатки. В другом лагере каждому третьему вводили шприцем в вену воздух: человек начинал задыхаться и погибал в муках. А в Сувалках Фурсову пришлось столкнуться с экс-москвичом, обожателем классической русской поэзии, зондерфюрером Гофманом и его чудовищным псом, которому ничего не стоило по желанию своего хозяина загрызть любую жертву насмерть. Превеликой загадкой для всех осталось – куда однажды и навсегда сгинула эта палаческая пара (одноногий, но физически неодолимый узник Фурсов сумел утопить её в лагерном нужнике).
Как свидетельствовал Фурсов (через Снегина), выносливых военнопленных нацисты содержали впроголодь, однако не уничтожали – даже обезноженных. Те ведь тоже могли трудиться во благо Третьего рейха. Сам же Фурсов с его великанным обличьем, недюжинной силой был в этом смысле для нацистов самой подходящей особью. Комендант лагеря Торно Баумбах просвещал Фурсова: “Мы уничтожаем тех, кто слаб духом и плотью. А таких живучих, как ты, мы не убиваем. Таких мы лишаем разума, чтобы, кроме жратвы, вы не были способны ни на что, кроме работы, не могли
думать, бороться”.
думать, бороться”.
Но узники – боролись. Невероятно, но факт: даже в самых немыслимых условиях распространялась правда с воли, активно действовали группы Сопротивления. Пленных, у которых не было обеих ног (передвигались они на колясочках), называли на лагерном жаргоне танкетками. И опять же Фурсов рассказывал (Снегин фиксировал): однажды вконец оголодавшим танкеткам крупно повезло – им подвернулась живая корова. Танкетки за неимением ножей умерщвляли корову гвоздями. Корова ужасно кричала. Потом они гвоздями ее резали. Фурсову было очень жаль это разнесчастное животное. Но еще больше было жаль до боли родных танкеток – сам же он был полутанкеткой при одной уцелевшей ноге...
А по соседству – снова вспоминает Фурсов (а Снегин передает) – пленные французы, американцы, англичане под легкую музыку поигрывали в волейбол, и по окраинам огромного лагеря втихую процветал неистребимый Geschaftmachen. Да-да, тот самый гешефтмахен – черный рынок, где пленные (танкетки и полутанкетки тоже) в обмен на деньги и калорийное съестное удачливо сбывали местным цивильным немцам свои искусные поделки – раскрашенных верблюжат, зебр, крокодильчиков из фанеры, рамочки для семейных фотографий, домашние тапочки...
А что урывками (а иногда безотрывно целыми страницами) читал Фурсов для укрепления воли и духа? Старинные былины про Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича? “Железный поток” Александра Серафимовича? Бессмертный роман Николая Островского “Как закалялась сталь”? Да нет же. Не было таких книг в лагерях. Он помногу читал и перечитывал Ги де Мопассана. Его роман “Милый друг”. Но в подкрепление – чудом обнаружившийся “Мятеж” Фурманова: о том, как без единого выстрела в городе Верном, ставшем потом Алма-Атой – Алматы, были размагничена смута и предотвращено братоубийство.
В свои 20 лет Фурсов не знал девичьего поцелуя. Толком (так сам он полагал) не успел сразиться с жестоким врагом в открытых боях. А потому ярая ненависть к главному персонажу “Милого друга” – пробивному Жоржу Дюбуа, такому же, как и он, Фурсов, рыжему и жизнестойкому, но провоевавшему в Алжире в отличие от него, безбедно, удачно морочившего голову женщинам, – эта остро заточенная ненависть переполняла душу Фурсова и тоже помогала ему держаться всю тысячу дней и ночей плена.
Они показались ему тысячью лет. Но и они, слава Богу, кончились!
И вот в первый день освобождения от плена (этого нет в повествовании Снегина, но это было в жизни Фурсова) старший по званию освободитель вопросил радостно кинувшегося к нему донельзя исхудалого узника – советского пилота: “Кто-о такой?” Пилот, приветственно приложив правую ладонь к лагерной шапочке, отрапортовал, как положено, по форме: летчик такой-то (назвал литеру) Воздушной Армии, такого-то (отчеканил номер своего авиационного полка). В ответ: “А! Предатель!” и – командирские пули прямо в лоб несчастному (Центральный Государственный Архив Республики Казахстан, ф. 1965, оп. 1, д. 20, лл. 15, 32, 37, 43). Каково? Ах, как хотелось бы Снегину видоизменить для себя эту и другие страшные своей разящей бесчеловечностью картины, разукрасить их счастливыми описаниями горячих братских объятий и скупых мужских слез, на что мы вдосталь насмотрелись в бодрых киноэпопеях о войне! Но разве не была бы такая подмена для него нечистой сделкой с собственной же совестью?
Да, самые невероятнейшие несчастья и жестокие беды выпали невыдуманному герою Снегина и Смирнова Владимиру Ивановичу Фурсову на его суровую долю. Однако не было в их нескончаемой череде такой, которая сумела бы сломить его истинно-семиреченский характер, непреклонную волю к борьбе и к самой жизни. Но все-таки он победил Войну. И вместе с ним её одолел весь наш Народ. Чего бы то ни стоило.
Кoличество переходов на страницу: 3587
| Версия для печати | Сообщить администратору | Сообщить об ошибке | Вставить в блог |