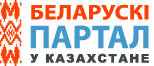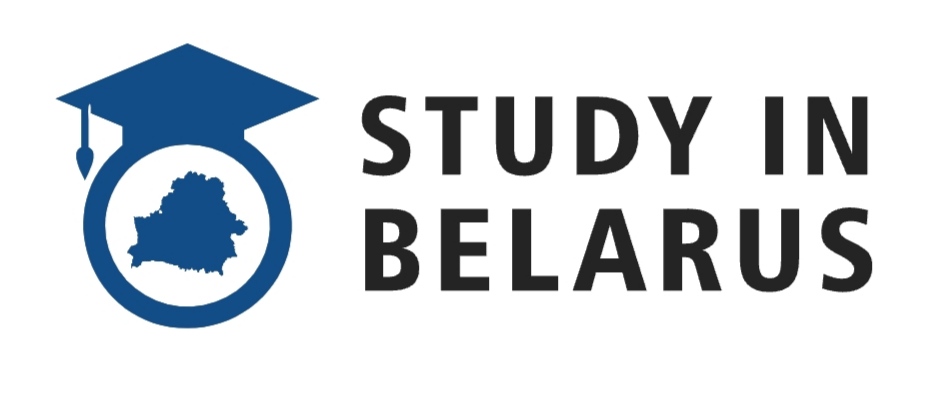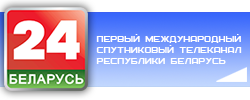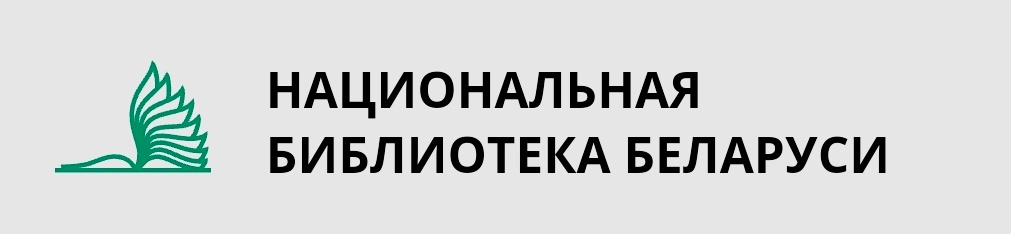– Не так давно глава ФНБ «Самрук-Казына» Келимбетов был в Москве и, судя по материалам российской прессы, сообщил о вероятной продаже фондом госдоли в крупнейших банках Казахстана. Той доли, которую в кризис государство выкупило. Для рядового казахстанца это хорошо или плохо?
– В Казахстане экономисты от власти привыкли оглядываться на пример зарубежных стран. Так же было и в ситуации с вхождением государства в капитал отечественных банков. Наши принялись использовать данный инструмент, к слову, тактически правильный, после того, как зарубежные власти национализировали крупные банки. А теперь, когда они говорят о необходимости выйти из капитала банков в течение ближайших 2-3 лет, наши власти заявляют то же самое. Этим государство демонстрирует, что оно вошло в капитал банков не для захвата, а для спасения. Но здесь есть нюанс: такие инициативы основываются на том, что экономическая ситуация в стране и мире улучшится. Но я бы не был столь оптимистичен.
– Почему?
– В начале 2009 года мы прогнозировали, что к концу года цена на нефть будет 80 долларов за баррель. Прогноз сбылся. Ещё мы прогнозировали, что в ноябре-декабре прошлого года будет резкое падение цены нефти примерно до 30 долларов. Но тут мы ошиблись. Расчеты основывались на заявлениях экономических властей мировых держав о том, что примерно в октябре-ноябре все антикризисные меры ими будут свернуты. Но, несмотря на эти заявления, правительства и центробанки крупнейших стран продолжают вливать огромные суммы в экономику. На текущий момент из двух признаков приближения второй волны сбылся один – это укрепление доллара ко всем мировым валютам. Кстати, сейчас можно наблюдать удивительный феномен: несмотря на общемировой рост, доллар падает по отношению к тенге. Что касается второго признака – падения цен на нефть – то оно запаздывает. В силу того, что большая часть антикризисных денег так и не дошла до реального сектора, но просочилась на фондовые и товарные рынки. И этот процесс не прекращается. Но как только подпитка закончится – ибо государства не могут бесконечно вливать деньги –, цена на нефть упадёт до 30 долларов. При таком раскладе должна состояться ещё одна волна девальвации, которая откинет национальную валюту в диапазон 170-180 тенге за доллар. Посмотрите на автомобильную отрасль Германии. Когда государство сократило поддержку этой отрасли в январе текущего года, то продажи авто упали на 50 процентов. То есть, если антикризисные программы свернут везде – мало не покажется никому, в том числе и Казахстану. И эта волна кризиса будет более продолжительной, так как тех резервов, которые были раньше, ни у одной страны уже нет.
– А как быть с заявлениями наших властей, что всё хорошо, и кризис мы пережили. Причем приводится конкретная статистика, например, по росту ВВП?
– Чиновник должен вселять оптимизм в людей. Это его обязанность говорить о хорошем. Положительный психологический фон – это неотъемлемое условие реализации любой экономической программы. Но за простым вселением оптимизма должны следовать реальные меры. Вот в этом месте у нас некоторые проблемы. Чем возмущено население? Тем, что на деле ситуация не такая оптимистичная, чем в официальной статистике.
– Иными словами, наша официальная статистика врёт?
– Некоторые показатели вызывают сомнения. Скажем по безработице. Если посмотреть последний докризисный период – второй квартал 2007 года, когда экономика работала на всех парах – уровень безработицы был 7,3 процента. Сегодня – 6,5. Четвертый квартал 2009 года вообще 6,3 процента. Как получилось, что количество безработных во время кризиса меньше, чем было безработных до кризиса? Это, как минимум, нелогично. Можем взять более объективную методику. Все люди, кто получает заработную плату, отчисляют пенсионные. Есть небольшая доля тех, кто получает заработную плату что называется «в конвертах», но их немного. Если высчитать долю активных пенсионных счетов от экономически активного населения, то она составляет 88 процентов. Выходит, реальная безработица в Казахстане составляет, как минимум, 12 процентов.
– Но ведь зафиксирован же рост ВВП. По-вашему, и тут правительство нарисовало цифры для «вселения оптимизма»?
– Не берусь утверждать. Но для информации приведу некоторые примеры. Возьмем 2009 год. Есть так называемые валютно-индексированные кредиты, которые формально выданы в тенге, но на самом деле привязаны к доллару. Таких кредитов очень много. У нас вся статистика ведется в тенге, поэтому, когда в феврале 2009 года провели девальвацию, общая сумма существующих кредитов на бумаге выросла. На самом деле, если убрать эффект девальвации, то в прошлом году по отношению к 2008 году падение объема кредитования составило примерно 9 процентов. То есть экономика не получила этих средств, и здесь большой вопрос: как при таком раскладе экономика страны в 2009 году сумела произвести больше товаров и услуг, чем в 2008 году? Это еще не всё. Январь 2009 года по всем показателям был провальным. И тогда объем кредитов составил 422 млрд тенге. Сегодня власти заявляют, что кризис пройден. Но в январе 2010 года было выдано только около 180 млрд тенге, то есть падение почти на 70%. Это я привожу данные о новых, выданных кредитах. Но есть и обратный поток – возврат кредитов. Если заёмщики возвращают в банки кредитов больше, чем те выдают новых, то общий ссудный портфель сокращается. Только в январе 2010 года ссудный портфель банков уменьшился на 80 миллиардов тенге. То есть в январе банки влили в экономику Казахстана 180 миллиардов тенге, а экономика вернула банкам по старым кредитам 260 миллиардов тенге. Как с сокращением финансирования экономика растет? Причем данные по денежно-кредитной политике одни из самых объективных, потому что там невозможно практически ничего приписать. По ним хорошо отслеживать адекватность официальных данных. А вот другая статистика может быть корявой, особенно если собирается в регионах. Сидит региональный аким, и у него своя рейтинговая система. Если безработица растёт, к нему появляются вопросы сверху. Поэтому он находит способ занизить статистику. При этом он думает, что от этого ничего кардинально не изменится. Проблема в том, что так же думают и его коллеги.
– Звучит вполне убедительно. Выходит, в Казахстане вообще официальным данным верить нельзя?
– Справедливости ради, нужно отметить, что политика вселения оптимизма присутствует не только в Казахстане, а в каждом государстве. И по степени извращенности казахстанская статистика относительно достовернее, чем во многих странах. Скажем, официальная безработица в США составляет 9,7%. Но мало кто знает, что это узкий показатель безработицы, который вдруг стал основным с конца 90-х годов. Есть ещё широкий показатель, который использовался активно и публично примерно до конца 80-х годов. Потом примерно с конца 90-х годов о нем вообще многие забыли. По нему уровень безработицы в США составляет 19,2 процента. То есть искажение практически в два раза. Американская и японская статистика – это две самые извращенные статистики в мире.
– Олжас Абдумаликович, если реальные объемы кредитования в Казахстане сократились, как вы утверждаете, то куда ушли выделенные государством на антикризисные мероприятия деньги? Они ведь должны были попасть в экономику именно через банки?
– По большому счёту, они так и остались в банках. В доставке антикризисных денег в реальную экономику очень много проблем: как объективных, так и субъективных. Субъективного характера проблемы следующие: деньги государственные поступили в банк. Соответственно за ними присматривают и финполиция, и прокуратура, и Счётный комитет, и другие органы. Все смотрят со всех сторон, и рядовой сотрудник банка боится сделать шаг влево, шаг вправо. Поэтому на всякий случай осторожничает и отказывает в кредите. Есть и объективные причины. К примеру, выделили деньги и якобы обеспечили ставку 12-13%. Но такая ставка была бы выгодной для бизнеса до кризиса, а сейчас уже нет. Доходы ведь уменьшились. Еще одна проблема – сломалась сама модель оценки проектов. Если раньше бизнесмены и банкиры что-то могли прогнозировать по проектам и принимать решения, то сегодня мало кто осмелится предполагать, что будет с его проектом в 2011 или в 2012 году. Ещё один фактор – ухудшение ситуации со старыми кредитами. Если банку не возвращают «старые» кредиты, разве он будет спешить выдавать новые? И это еще не всё. В период роста внешние займы поступали в экономику: то есть в банки, далее в компании, малый и средний бизнес. Сейчас обратный процесс идет. То есть МСБ и физлица возвращают кредиты в банки, оттуда деньги идут на выплату внешних займов, а не для кредитования новых проектов. Все эти многочисленные факторы совпали и при таком раскладе деньгам трудно дойти до реальной экономики. Опять же повторюсь, аналогичная ситуация не только в Казахстане, но и во многих странах.
– Возвращаясь к вероятной продаже государством своей доли в банках. Как вы считаете, государство все-таки пойдёт на этот шаг?
– Не исключено. Но, видимо, произойдёт это не так скоро. Сейчас, пока государство «сидит» в капитале крупнейших банков страны, самое подходящее время ввести некоторые ограничения. Согласитесь: банки, в которых присутствует государство, будут совсем не против государственных же инициатив.
– Каких?
– Ограничения? Они касаются привлечения внешних займов, в первую очередь. Запрет на выдачу валютно-индексированных займов, ограничение ставки процента и размера пени. Ограничения операций с офшорами и так далее. В Казахстане банковский сектор играет очень мощную роль. Его значение у нас больше, чем вместе взятых производственного и потребительского секторов. Вообще волна переоценки значимости банковского сектора проходит сегодня по всей планете, не только в Казахстане. В последние 20 лет было чрезмерное преувеличение роли банковского сектора, поэтому сейчас идет обратный процесс.
– Допустим, государственные куски банковского пирога будут выставлены на продажу. В Интернете активно обсуждают то, что госдолей в БТА Банке интересуются китайские инвесторы. Как вы считаете, может ли государство пойти на сделку с Китаем, учитывая, что в нашем обществе ходит всё больше разговоров о китайской экспансии?
– Считаю, что в банковский сектор иностранцев нельзя пускать. По крайней мере, в пятерку крупнейших банков. А по Китаю можно сказать, что там скопилось несколько масштабных проблем, и эти проблемы вот-вот проявят себя. В этом случае Китаю явно будет не до нас, и вопрос о китайской экспансии будет временно закрыт.
– В последнее время в связи с созданием Таможенного союза некоторые эксперты считают актуальной для Казахстана не китайскую экспансию, а российскую. Вы разделяете это мнение?
– Давайте сначала. Весь 2009 год белорусская экономика боролась с проблемой: куда деть излишки? У них собственное производство обеспечивает 80-120% собственного потребления, в зависимости от товара. И для Беларуси Таможенный союз как нельзя кстати.
Но какой смысл для Казахстана в этом союзе? У нас ведь ситуация ровно обратная. По целому ряду позиций только импорт, своего нет. До тех пор, пока мы не встанем на ноги, то есть не будем обеспечивать самих себя, участие в этом союзе невыгодно с экономической точки зрения. Тем более, у нас очень мало точек соприкосновения, где мы друг друга дополняем. В основном мы конкурируем. Взять, например, то же мясо. Если наши власти озвучивают планы по наращиванию экспорта, то, уверяю, и российский Минсельхоз предполагает не менее оптимистические прогнозы по экспорту мяса. Вообще, я считаю, российская экономика очень слабая. Да, она больше нашей, но для масштабов самой Российской Федерации очень слаба. Сегодня, если говорить образно, российская экономика похожа на тонущий корабль, а наша экономика, как маленькая лодка. Поэтому если корабль совсем уж пойдёт на дно, нам на нашей лодке нужно быть подальше от этой воронки, а не около неё, иначе мы сами потонем. Даже если казахстанские производители сейчас встанут с колен, начнут теснить российских производителей, то, я вас уверяю, Россия тут же найдет способ внедрить пошлины. То есть это еще одна причина, почему нам этот союз не нужен. Но проблема в том, что российские чиновники уже сделали много заявлений по поводу того, что будет единое экономическое пространство и даже единая валюта.
С точки зрения экономики наша страна будет максимально интегрирована в российскую. Это будет не совместная, равноправная интеграция, а именно наша экономика будет интегрироваться в российскую, после чего остается только политическая интеграция. Какие угрозы несет в себе данный процесс, думаю, политологи лучше объяснят, но я скажу об экономической интеграции. Пример еврозоны, которая вот уже 3-4 месяца никак не может помочь Греции, примечателен. Во время кризиса чётко видно, что у каждой страны свои проблемы и коллегиально их не решить – никто не хочет финансировать их решение, ибо своих проблем предостаточно…
Булат МУСТАФИН, Мегаполис
| Версия для печати | Сообщить администратору | Сообщить об ошибке | Вставить в блог |